Хорошо, что вы были с нами...
Аксенов всю жизнь доказывал бессмертие души, и после смерти тоже. В гробу на сцене Большого зала ЦДЛ лежал величественный старик, похожий на лорда, но совершенно не похожий на Аксенова. Аксенов улетел.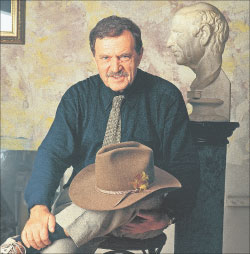 Полтора
года он странствовал между жизнью и смертью, перенес две
операции, но так был надолго сделан, что даже
возвращался иногда в сознание. Речи не было. Смотрел
внимательно, с крайним изумлением. Однажды даже смог
сесть в постели и выпил чаю. Об этом с надеждой
передавали из уст в уста (в Москве всегда о нем
говорили, что бы он ни сделал).
Полтора
года он странствовал между жизнью и смертью, перенес две
операции, но так был надолго сделан, что даже
возвращался иногда в сознание. Речи не было. Смотрел
внимательно, с крайним изумлением. Однажды даже смог
сесть в постели и выпил чаю. Об этом с надеждой
передавали из уст в уста (в Москве всегда о нем
говорили, что бы он ни сделал). Теперь он умер и переменился сразу, до неузнаваемости, снова доказав, что душа есть и что она куда-то девается. Провожать его шла нескончаемая толпа – по перекрытой Большой Никитской, в тот самый ЦДЛ, который он так любил в молодости и презирал в зрелости, в место богемных сборищ начала шестидесятых и позорных проработок конца семидесятых. Здесь входили в легенду его радостные ранние дебоши, здесь он отмечал выход «Звездного билета» и «Затоваренной бочкотары», здесь его клеймили за «Метрополь» и исключали из союза, сюда он триумфально вернулся – но прежнего ЦДЛ уже не было. Да и кутежей он уже не любил, хотя гордо называл ночную Москву «самым свингующим городом мира».
В толпе, шедшей его провожать, представлены были два поколения: шестидесятники и семидесятники. Дальше – тишина. То ли в России нет писателей моложе пятидесяти, то ли поминали его где-нибудь в другом месте. Впрочем, двадцатилетних тоже хватало. В основном это были мальчики и девочки с блицами и микрофонами. Все они выцепляли в толпе медийные лица и спрашивали одно: «Что значит для вас Аксенов?» Мэтры переадресовывали этот вопрос мальчикам и девочкам, и они смущенно улыбались.
Что до великих шестидесятников, несмотря на болезни и разногласия, они собрались. Вознесенский с Зоей Богуславской, Ахмадулина с Мессерером, Евтушенко, Войнович, художник Игорь Обросов, саксофонист Алексей Козлов, Галина Волчек, Игорь Волгин, Станислав Лесневский; из младших – Кабаков, Королев, Веллер...
Ахмадулина: «Сейчас, когда легкий вздох Аксенова растворился в осиротевшем мире, я больше всего хочу, чтобы не кануло, не исчезло его ненавязчивое, беспечное поучение…»
Вознесенский вернувшимся голосом читал написанное недавно: «Не облыжная, не казенная боль за ближнего, за Аксенова. Наша жизнь – как дом без фасада. Держись, Васята». Это был измененный вариант – напечатал он другой. А ведь действительно, дом без фасада: всю жизнь на виду. И Вознесенский, и особенно Аксенов, чьи романы (в обоих смыслах), переезды, дружбы и ссоры всегда были достоянием широчайшей публики. По нему сверяли ощущения и догадки. На его выбор ссылались. Цитатами из его радиовыступлений на «Свободе» обменивались, как паролями. «Почему он выбрал Биарриц? Потому что в нем слышится биоритм. Этим биоритмом жива его проза, которая по самому устройству своему – истинные белые стихи» – это снова Вознесенский, клонящийся набок, едва держащийся на сцене, но читающий стоя, рубящий воздух рукой в стиховом ритме прежним бессмертным эстрадно-стадионным жестом.
 Евтушенко
читал из старого: «Уходят друзья, кореша, малолетки, как
будто с площадки молодняка. Нас кто-то разводит в
отдельные клетки от некогда общего молока». Его приход
сюда – решение трудное и благородное: лет двадцать они с
Аксеновым провели в тихой, благородно не афишируемой
вражде, хотя до того дружили долго и крепко. Аксенов
оценил бы это позднее примирение: в «Таинственной
страсти», кусками опубликованной еще при его жизни, а
целиком выходящей сейчас, о Евтушенко много горьких
страниц, но любви и откровенного подчас любования тоже
хватает; таланту Аксенов прощал многое.
Евтушенко
читал из старого: «Уходят друзья, кореша, малолетки, как
будто с площадки молодняка. Нас кто-то разводит в
отдельные клетки от некогда общего молока». Его приход
сюда – решение трудное и благородное: лет двадцать они с
Аксеновым провели в тихой, благородно не афишируемой
вражде, хотя до того дружили долго и крепко. Аксенов
оценил бы это позднее примирение: в «Таинственной
страсти», кусками опубликованной еще при его жизни, а
целиком выходящей сейчас, о Евтушенко много горьких
страниц, но любви и откровенного подчас любования тоже
хватает; таланту Аксенов прощал многое. Богуславская вспоминала, как в 1975 году Аксенов возил мать, Евгению Гинзбург, по Европе: на своей машине, советской, разумеется, и многократно чиненной – сам все умел, был страстным автомобилистом, – провез по Польше, Чехословакии, Франции, Германии, гордился ее безупречным французским и немецким, на которых ей – впервые за семидесятилетнюю жизнь! – выпало поговорить с носителями языка. Этой поездки он добивался всеми правдами и неправдами, вырвал ее – мать должна была увидеть Европу, о сыром, ночном, вольном воздухе которой он лучше всех сказал в «Ожоге» и «Цапле». А был уже написан и ушел в самиздат «Крутой маршрут», уже лежал в столе тот самый «Ожог», который попал в семьдесят седьмом в органы, после чего Аксенова вызвали и предупредили: «Либо нам с вами придется расстаться, либо…» Но он и тогда не уехал, хотя чудом не погиб под Казанью в подстроенной автокатастрофе. Держался до 1980 года, до исключения из союза, до приглашения в Штаты с лекциями и лишения гражданства.
…Я смотрел на шестидесятников, на почти не изменившегося Войновича, на восстановившегося после трех инсультов Вознесенского, на Ахмадулину, чей голос после первых фраз стремительно набирает прежнюю хрустальную высоту, – и думал: Господи, как же сильна оказалась та радиация! Словно в пасмурном российском небе пробили над ними окно – и это поколение, натерпевшееся в юности, терявшее родителей в детстве, голодавшее во время войны, охаиваемое ренегатами и завистниками, было облучено небывалой всероссийской и всемирной известностью. Заряд той надежды на иллюзорную и краткую симфонию народа и власти подарил им потрясающую жизнестойкость.
Аксенов умел страстно ненавидеть всё, что мучает человека, всех, кто получает удовольствие от этого мучительства; унижения, отчаяние, бессильную жажду отмщения он переживал с той же силой, с какой радовался любым проявлениям дружества и свободы. Его книги внушают силу и решимость и многих еще научат презирать касторово-хлорный дух нищеты и стадности, доносительства и трусости. Его радостная мощь и стилистическое богатство никуда от нас не денутся, конечно, и люди, которые нуждаются в драгоценном витамине его прозы, тоже никуда не исчезнут. Надо же нам когда-нибудь собраться с силами и победить овладевший страной морок – тут-то и будет нам опорой роскошный, искрящийся, пылкий, сострадательный, милосердный, неумолимый Аксенов, лучший русский писатель своего поколения, магаданский юноша Толя фон Штейнбок из «Ожога», победивший всех Ченцовых и Клизмецовых. Мальчик, сданный в детдом после ареста родителей и плакавший в обнимку с игрушечным львенком – единственным, что у него осталось.
Но он вырос и «сделал» всех, и дал надежное оружие своим ученикам и последователям. Нам остались «Редкие земли», «Кесарево свечение», «Победа», «Рандеву», «Жаль, что вас не было с нами».
Хорошо, что вы были с нами.